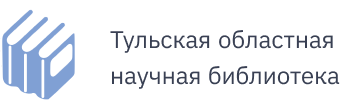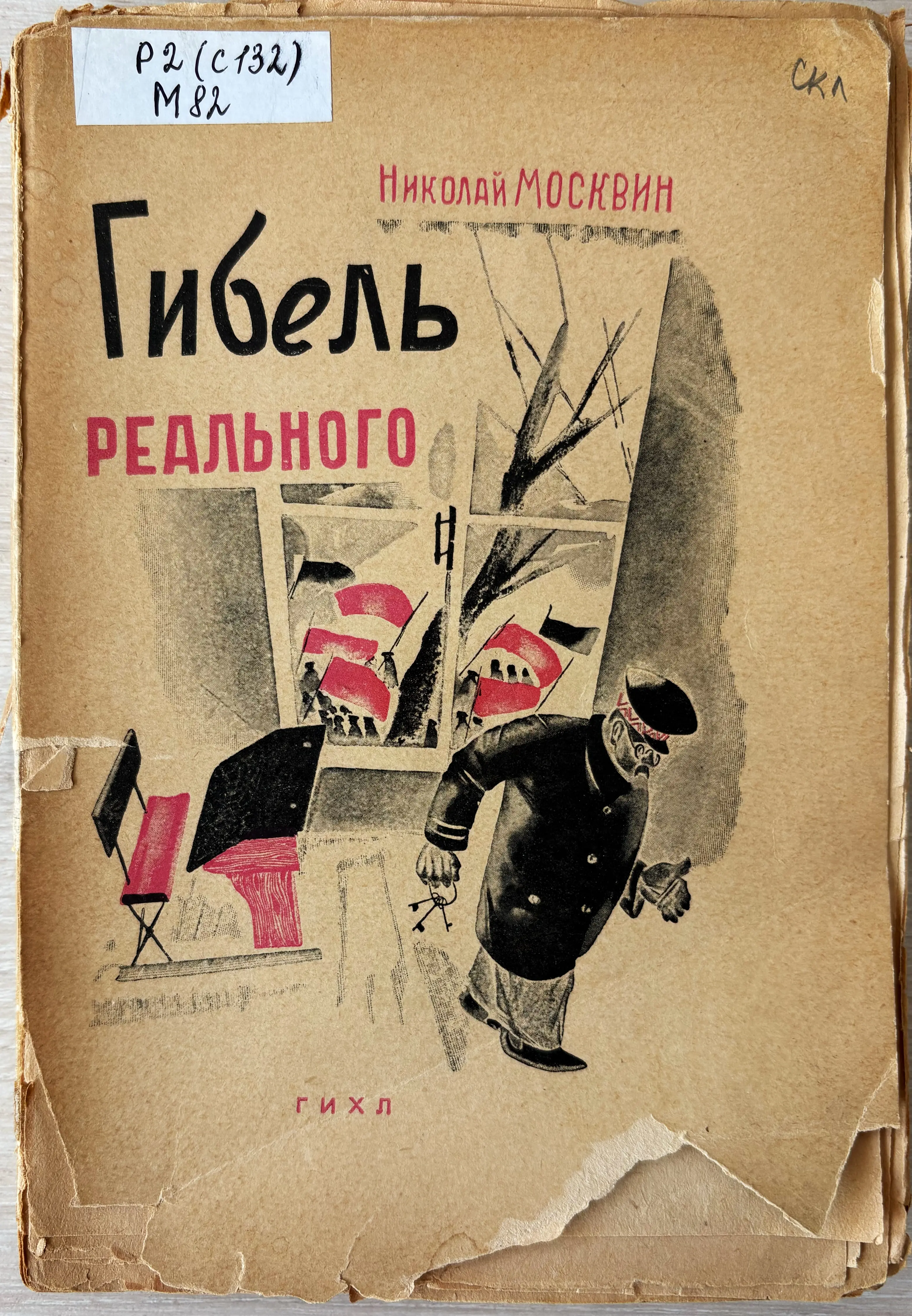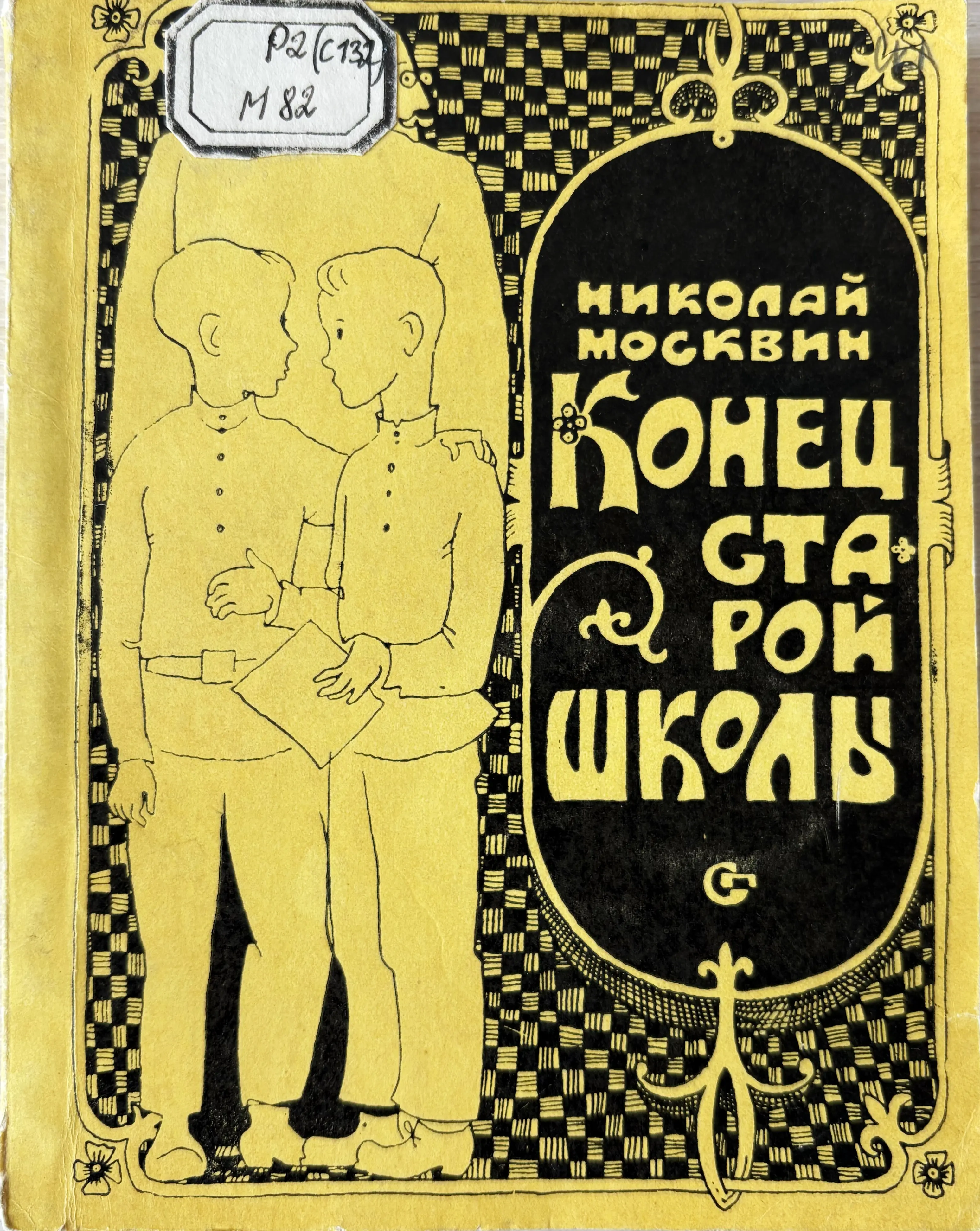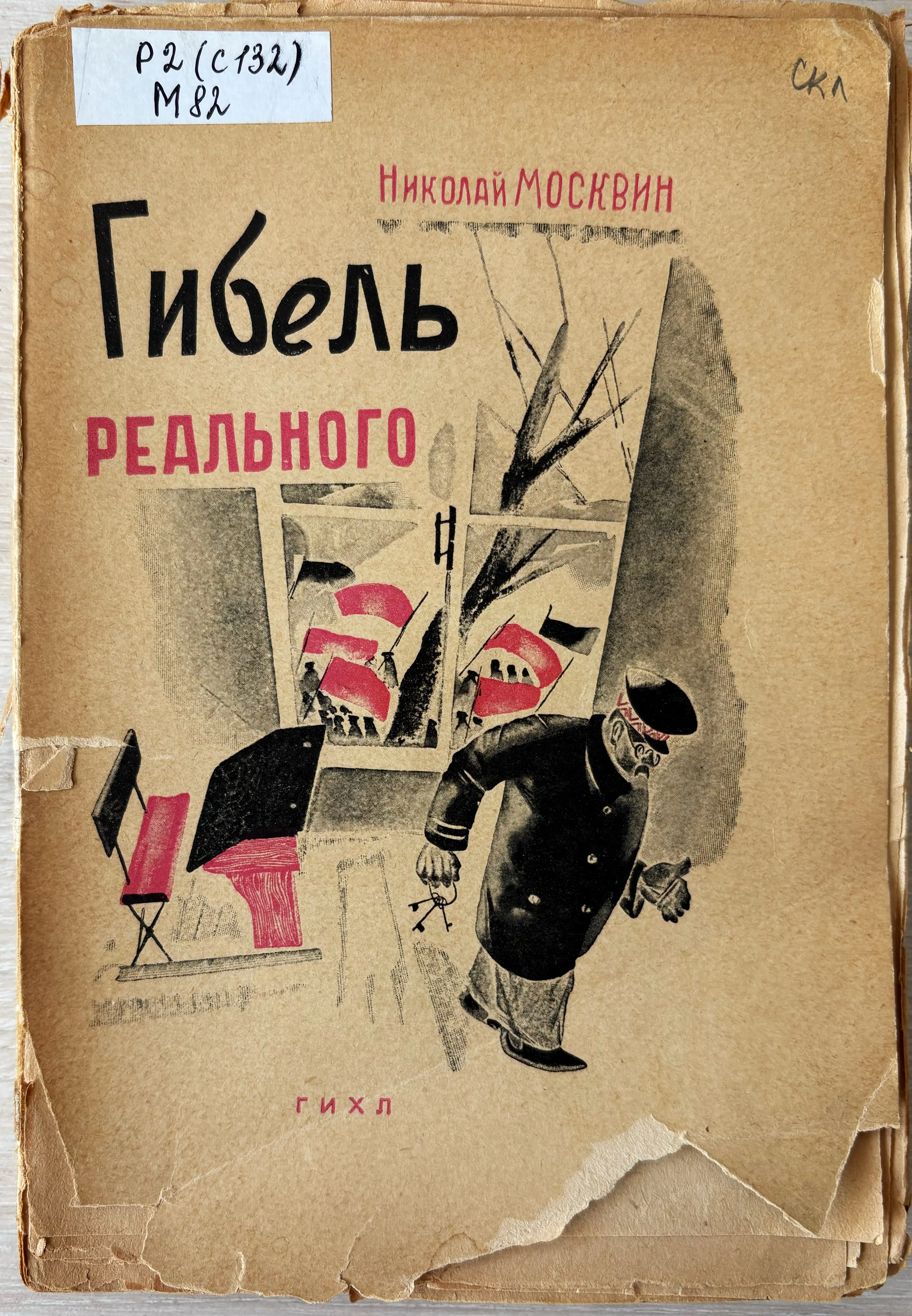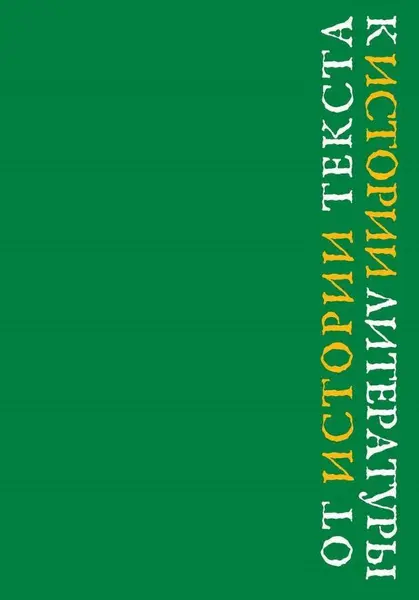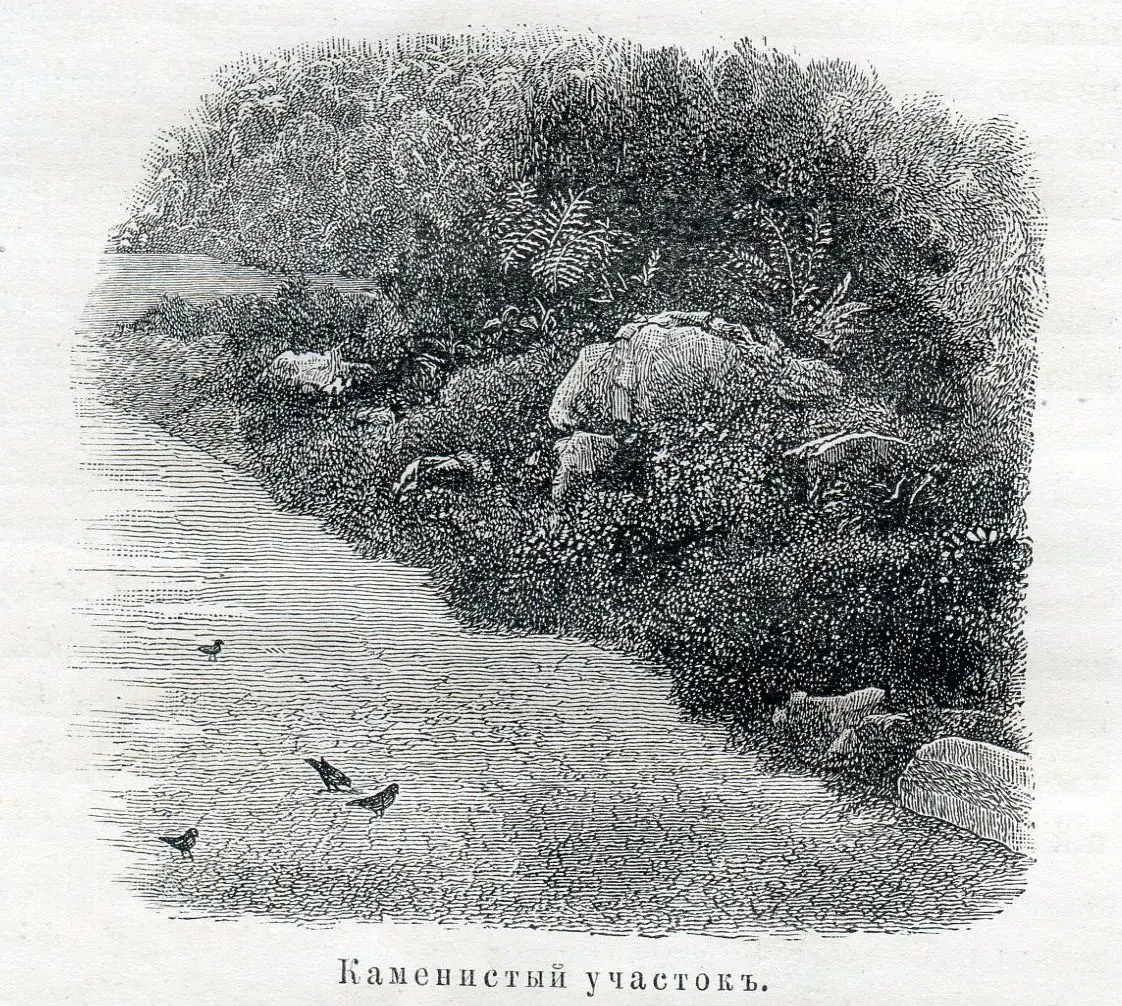Забытое сочинение о родной земле
Осенью туляков ожидают два значимых и связанных между собой юбилея:
– 150 лет Тульскому Реальному Училищу (1875-1918),
– 125 лет со дня рождения писателя Николая Яковлевича Москвина (Воробьёва) (1900-1968).
Родившийся некогда в Туле Николай Москвин написал в 1929-30-м гг. повесть с многозначительным названием «Гибель Реального». Её удалось издать в 1931-м. Про книжку, впрочем, вскорости позабыли: мало ли книжек.
Переиздали её под ужасным, хотя безопасным названием «Конец старой школы» только в 1969-м. Особенно никто не возбудился. Потом, всё в то же советское время и под новым названием, переиздали ещё два-три раза в сборниках Москвина. Забыли быстро и намертво. Во всяком случае, по доброй воле читать «Конец старой школы» давно никто не отваживается.
В июне 1978-го на едва построенном здании Тульской областной библиотеки имени В. И. Ленина была открыта мемориальная доска, которая свидетельствует, что на месте библиотеки в самом начале века стоял домик, где Москвин – тогда, впрочем, ещё Воробьёв – родился. Все её, конечно, видели и подавляющее большинство при этом недоумевало: «Что ещё за “Москвин-Воробьёв”? В моём сознании, в моём горизонте восприятия никакого такого писателя нет. Да и не надо: довольно нам и Льва Толстого с Глебом Успенским».
Имя Ленина впоследствии у библиотеки отобрали. Наверное, правильно: Ленин не имеет к ней никакого отношения, а вдобавок вот уже сорок лет находится на подозрении и под «Судом Истории». Но не пора ли, наконец, присвоить Тульской областной научной библиотеке имя Николая Москвина?! Дело же не только в том, что Москвин именно здесь, ровно на этом самом месте родился, а ещё в том, что как минимум одна его книга, «Гибель Реального», – очень хороша. Проверено.
Язык и стиль изложения местами слишком экспрессивный – вполне в духе сориентированных на языковый эксперимент 1920-х. Однако же, композиционно эта его вещь поистине гениальна. Ни больше и ни меньше. Хочется воскликнуть: «Всем читать!», да вот беда, со временем брошюрка поистрепалась, много читателей, пожалуй, что и не выдержит. Не пора ли, таким образом, выдающуюся работу нашего славного (впрочем, вру, ибо на деле – недооценённого, почти никому не известного) земляка переиздать?
Регулярно просматривая текущую продукцию тульских издательств, встречаешь такое количество изысканной или не вполне изысканной графомании, что диву даёшься. Наши люди всё пишут и пишут, платят за это собственные деньги, издают изящные книжечки, дарят их и хотят понравиться, что, между прочим, вполне объяснимо. Так и должна работать региональная культура: на плечах десятков тысяч любителей – громоздятся авторы мирового или общероссийского значения, будь то Лев Толстой или Алексей Дьячков. Однако совершенно не объясним тот факт, что при этом старый мудрый шедевр из 1920-х не переиздаётся, рассыпаясь в руках. Там же каждая глава и каждый эпизод отсылают к тульским улицам, к сохранившимся до сего дня зданиям и скверам; всё пропитано тульским воздухом, обеспечено тульской спецификой!
Расстановка сил. Учёба и потасовки
Кстати, а что такое «реальное училище»? А вот что:
 «Происходит от немецкого Realschule. В Германской империи и царской России – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором существенная роль отводится предметам естественной и математической направленности. Одним из первых основателей реальных школ считается пастор из немецкого города Галле Кристоф Землер, организовавший в 1706 году “Математико-механическую реальную школу” (нем. Mathematische und Mechanische Realschule), введя в которой в 1738 году курс сведений о хозяйстве, назвал её “Математической, механической и хозяйственной реальной школой”. Уже в 1747 году немецкий богослов Иоганн Геккер открыл в Берлине “Экономическо-математическое реальное училище”».
«Происходит от немецкого Realschule. В Германской империи и царской России – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором существенная роль отводится предметам естественной и математической направленности. Одним из первых основателей реальных школ считается пастор из немецкого города Галле Кристоф Землер, организовавший в 1706 году “Математико-механическую реальную школу” (нем. Mathematische und Mechanische Realschule), введя в которой в 1738 году курс сведений о хозяйстве, назвал её “Математической, механической и хозяйственной реальной школой”. Уже в 1747 году немецкий богослов Иоганн Геккер открыл в Берлине “Экономическо-математическое реальное училище”». 
Вынеся в название своей повести словечко «Реальное», Николай Москвин акцентировал в конце 1920-х гг. его некое дополнительное измерение. Этот значимый акцент совершенно пропадает в варианте «Конец старой школы». Советские структуралисты дописались в своё время до такого смелого утверждения, что название литературного произведения – есть его полное, его базовое содержание в свёрнутом виде. Вот как высоко оценивали выдающиеся наши структуралисты функцию названия! Но тогда получаем две совершенно разные книги: умную, изысканно-утончённую, с философским подтекстом повесть «Гибель Реального» и вульгарно-социологическую вещицу «Конец старой школы». Наш совет: прочитайте имеющийся в фонде ТОНБ экземпляр, предварительно обернув книжечку самодельной бумажной обложкой с исходным названием «Гибель Реального»!
Итак, «Реальное» – это по Москвину не просто специфика учебного курса в соответствующем учебном заведении, но ещё и «приземлённость» как таковая. «Хозяйственный аспект». «Экономика». «Материализм». Если угодно, «протестантская этика». Всё, между прочим, как любили основатели «самого передового учения». Выписываем из соответствующей статьи «Большой российской энциклопедии»: «…Соединение политехнического образования (развитие технического кругозора и формирование у учащихся научно-обоснованной технологической картины мира) с производительным трудом К. Маркс и Ф. Энгельс считали основой системы воспитания в эпоху социализма и средством формирования всесторонне развитых людей».
Отдельно отметим, что, вопреки ожиданиям, книга Москвина абсолютно лишена идеологического нажима и пропагандистского нахрапа. Вероятно, потому её и постарались в своё время замолчать. Внимательный непредвзятый читатель с первых страниц отметит, как ненавязчиво и умело автор обогащает повседневные явления символической нагрузкой. Например, разнохарактерные учебные заведения Тулы обозначают у него не меньше, чем разные жизненные философии.
Т.К.Г. – Тульская Классическая Гимназия – это «ватные длиннополые шинели, тяжёлые ранцы», но ещё и символ некоего полумёртвого знания. В драках мальчиков-классиков лупят почём зря, ибо время отвлечённого знания и почтения к нему прошло, торжествует «демократическое начало»: «”Городские” одеты пестро, бедно, но легко: черные куртки, короткие поддевки, отцовские перешитые пальто. Бой идет недолго. С оторванными ранцами, с голубыми пятнами на лицах гимназисты привычно отступают».
Т. Д. Г. – Тульская Дворянская Гимназия – это «черные мундирчики, черные заглаженные брюки; на гимназических же парадах, балах, актах – жесткие фанерообразные мундиры с красно-золотыми жесткими воротниками; около трех к зданию гимназии спешат няньки, бонны». Время дворянчиков в мундирчиках сочтено, и автор не уделяет им сколько-нибудь серьезного внимания. «”Городские” не заглядывают в этот район». Пока что. До поры. Дворяне это известно что: потомственные привилегии, зачастую ничем не заслуженный, но попросту доставшийся от родителей статус. «Когда открывается дверь гимназии, идет – черное, черное, черное. Наверху Киевской улицы хозяева – черные».
Т.К.У. – Тульское Коммерческое Училище – символизирует ловкость рук и ума, капиталистическую смекалку/сноровку. «Коммерческое училище стоит на своей, на Коммерческой улице. Стоит давно и прочно… Прочно и крепко, как купеческая поступь». Вроде бы тоже люди приземленные, но не так, как мальчики и юноши из Т.Р.У. – Тульского Реального Училища, ибо есть в торговле своя поэзия, у каждого купца – индивидуальный подходец, индивидуальные приёмчики. Здесь публика, поэтому, весьма разнородная: «После учебы дрожки дребезжат в далекое Заречье, пролетки мчатся в центр – на Посольскую, на Киевскую».
«Реалисты», которые и будут, наряду с учителями из Реального училища, главными героями повести, ненавязчиво, но настойчиво даются как люди с разорванным сознанием: сначала на коллективных молитвах и на уроках Закона Божьего от них требуют проникнуться мистическим чувством, но следом вдалбливают нечто противоположное: «Помните вы все-таки, что математика для вас, реалистов, есть главное: вы, вероятно, техниками, инженерами будете, поэтому к математике надо подходить с душой и телом… Для реалистов математика – это всё. Центр!»
При этом учитель бессознательно разжигает сословную ненависть, исходя из каких-то личных/частных обид и впечатлений: «Но решим такую задачку… Ах, эти купцы, купцы! Вечно они кого-то обжуливают. Записывайте! – Лицо у Вырыпаева тускнеет. – “Купец смешал два сорта чая. Один сорт стоил 3 р. 20 к. за фунт, фунт другого сорта – 1 р. 18 к.” Наверно, дрянь какая-нибудь, они это могут. “Спрашивается, сколько он взял того и другого сорта, если…” Я двадцать лет смешиваю невидимые чаи, но поставь меня приказчиком в бакалейную лавку – завтра хозяин пойдет с протянутой ручкой просить: разорю! Но те, которые постарше меня, говорят, что надо вам это знать. Итак, спрашивается, сколько он взял того и другого сорта, если…»
Учитель математики, представитель точного знания, на деле в одном единственном монологе сеет столько семян сомнения, включая сомнение в мудрости «тех, которые постарше», то есть начальства, что на наших глазах, а ещё раньше в умах пресловутых «реалистов», эта самая РЕАЛЬНОСТЬ расползается, превращается в лоскуты, в плохо согласующиеся одна с другой и с третьей системы знания.
Заземление. Идеальное измерение исчезает
Когда реальность расползается настолько, что закономерно случается революция, Тульское реальное училище ликвидируют. Впрочем, «гибель Реального» осуществляется только на символическом уровне. Фактически же училище переименовывают, предварительно добавляя в прежние классы к мальчикам девочек с девушками из гимназии женской. Дальше происходит, что называется, «самое интересное»: РЕАЛЬНОЕ, в смысле земное, осязаемое, «человеческое, слишком человеческое», начинает замещать в широком смысле ИДЕАЛЬНОЕ.
Например, ждёшь от «детско-юношеской» в тематическом отношении советской прозы про революционный слом – традиционных большевиков, опекающих молодёжь и снабжающих её новыми идеями, вроде матроса Жухрая из Николая Островского или Полевого из «Кортика» Анатолия Рыбакова. Ничего подобного нет у Москвина! Его коллажная, его монтажная проза, составленная из холодных описаний, дневниковых записей персонажей и писем одного героя к другому и к третьему, заземлена самым немыслимым образом!
А именно: из мира повести постепенно изымаются какие бы то ни было «идеи». Отменён Закон Божий. Идейные большевики, как уже было сказано выше, в книгу так и не пришли. Ну, в конечном счёте, их было слишком мало, едва хватало на столицы, не до какой-то там Тулы. Повзрослевшие парни, учащиеся прежнего Реального училища, интересуются исключительно тем, что можно… потрогать. Один из «положительных» героев книги выпил полстакана водки на танцевальной вечеринке, неожиданно для себя самого осмелел и в процессе исключительно модного тогда [танца «падеспань» (фр. Pas d'Espagne; автор музыки и танца русский артист балета Александр Александрович Царман впервые представил его 1 января 1901 года в зале Благородного собрания Москвы) скользнул рукой по партнёрше. Куда скользнул, кстати, совершено непонятно. Партнёрша обиделась, а впрочем, не навсегда.
Отрицательный герой – между прочим, кумир всех старших девочек – «трогал» уже в процессе театрального представления, посвящённого первой годовщине Октября: этот и вовсе попытался за кулисами овладеть девушкой нравственного поведения. Но что же делали в это время «положительные», которые впоследствии «отрицательного» осудили и проработали на собрании? Эти – ненавязчиво убеждали (и убедили!) другую девушку нравственного поведения – снять кофточку, чтобы с большей убедительностью представить на праздничной школьной сцене, кажется, Свободу на Баррикадах. Свобода была замотана в алую материю, однако, неискушённым юношам хватало и её ослепительных плеч в комплекте с шеей.
Один паренёк влюбляется и поначалу по инерции приписывает происхождение красоты своей возлюбленной – Господу Богу. Однако, поразмыслив, решает, что эта поразившая его «красота» – её, девчонки, собственная заслуга. Другой паренёк, вероятно, последний идеалист, увлекается астрономией и на протяжении года пытается прочитать в школе доклад «Есть ли жизнь на Марсе», однако, то, что нельзя ПОТРОГАТЬ РУКАМИ, отныне никому не интересно: «Гришин до сих пор не может прочесть доклад о Марсе. Об этом уже знают и девочки. Когда упоминают о Гришине, они так и спрашивают: “Это тот, который о Марсе?” И зовут его “Марсианин”». Паренек, из дневника которого извлечена данная цитата и который вовсю, хе-хе, учится работать руками, саркастично итожит: «Гришин какой-то меланхолик, мечтатель».
Если не считывать авторскую стратегию символической возгонки бытового материала, можно счесть подобного рода эпизоды заурядными типовыми приёмчиками из распространённого жанра «повесть взросления». Так с неизбежностью получается у всякого читателя книги «Конец старой школы». Однако, тот, кто читает книгу «Конец Реального» и, значит, имеет в виду символический план повествования, истолкует всё надлежащим образом.
Технологическая картина мира
Однако, натуральное потрясение внимательный читатель повести испытывает, приступив к последней главе: «Он приехал в январе…» Совершенно внезапно Москвин обрывает летопись бесславных (хотя естественных) мальчишеских, да и девчоночьих проявлений, давая в финале подробное взаимодействие двух персонажей совершенно иного сорта, иного возраста, иного опыта, иных запросов, вопросов и ответов. Здесь книга из «очень хорошей» превращается в «великую». Обычно столь радикальный переворот происходит на последних страницах качественных детективов. Но чтобы в книжке на материале повседневности?!
В 1919-м году в свою бывшую гимназию проездом, тайком заглядывает её бывший директор Всеволод Корнилович. Его в путешествии по трёхэтажному зданию сопровождает гардеробщик, «бакенбардный Елисей». Простак Елисей озабочен следующим: «Говорят на лекциях, Всеволод Корнилович, что земля была до сотворения мира. Правда ли это или несознательность?... Это, конечно, при вас спокойнее было-с!...Как же тогда Господь Бог… и вообще…» Елисей травмирован новым «реализмом». Выходит, кстати, название книги – тонкая, изысканная авторская провокация, обманка?! Тульское Реальное Училище, да, некоторым образом погибло, будучи переименовано и перепрофилировано. Однако, РЕАЛЬНОЕ как антипод ИДЕАЛЬНОГО, наоборот, целиком и полностью восторжествовало. Поддавшийся Елисей в полном отчаянии: «Так, значит, господин директор, Бога-то вроде… как бы… и нет?! Что же вы, Всеволод Корнилович, раньше… давно не сказали это… я бы, может, иначе жил… я верил вам всем, а вы так…»
Самое трагичное, однако, то, что шибко грамотный бывший директор, поначалу ругающий Елисея за податливость, за покорность новому стилю мышления, тоже полностью перековался, отказавшись от мало-мальского идеализма: «Экий ты, братец, философ! Отстань! Бог ничего не создавал. Ни землю, ни человека. Подлость и хамство он создал!» Знаменитое высказывание Василия Розанова о том, что «Россия слиняла в три дня» опровергается книгою Николая Москвина на раз. Перечитывая повесть со знанием её финала, видишь как уже на уровне провинциальной повседневности, потихоньку, но методично и неотвратимо, готовится снос прежнего порядка. Годами, десятилетиями, как минимум, с момента основания Т.Р.У. Скрестили православный идеализм с мироустроительным порывом в духе немецкого доктора Фауста, однако, монах с инженером так у нас и не подружились…
Помнить!
Уже осенью 1919-го трёхэтажное здание бывшего Реального училища занял Военный Совет Тульского укреплённого района, руководивший обороной Тулы от войск армии А. И. Деникина. Бывших реалистов слили с учащимися Перовской гимназии, которая располагалась на углу Кашинского (сейчас Центральный) и Учётного переулков. Новое учебное заведение получило название 4-я единая трудовая школа имени Герцена, а в 1967-м ей было присвоено имя Героя Гражданской войны, выпускника Перовской гимназии Николая Руднева.
Автор этих строк отправился в свой первый класс как раз в старое здание средней школы №4, располагавшееся на территории, где ныне Творческий индустриальный кластер «Октава». Таким образом, могу себя считать наследником по прямой тех мальчиков, которые столь обаятельно и тонко описаны Москвиным. До сих пор, кстати, помню, как на торжественной линейке выпускники прежних лет пели фирменную песню с припевом:
Пусть судьба нас тревогами мучит,
Нам дешёвый не нужен покой!
Если «Рудневец», значит, не струсит.
Если «Рудневец», значит, герой.
Если о Перовской гимназии и о традициях Рудневской школы сегодня мало кто может внятно рассказать, то о Тульском Реальном Училище у нас, слава Богу, есть достоверный, а вдобавок высокохудожественный документ – повесть Николая Яковлевича Москвина-Воробьёва.
Каталожные карточки книг
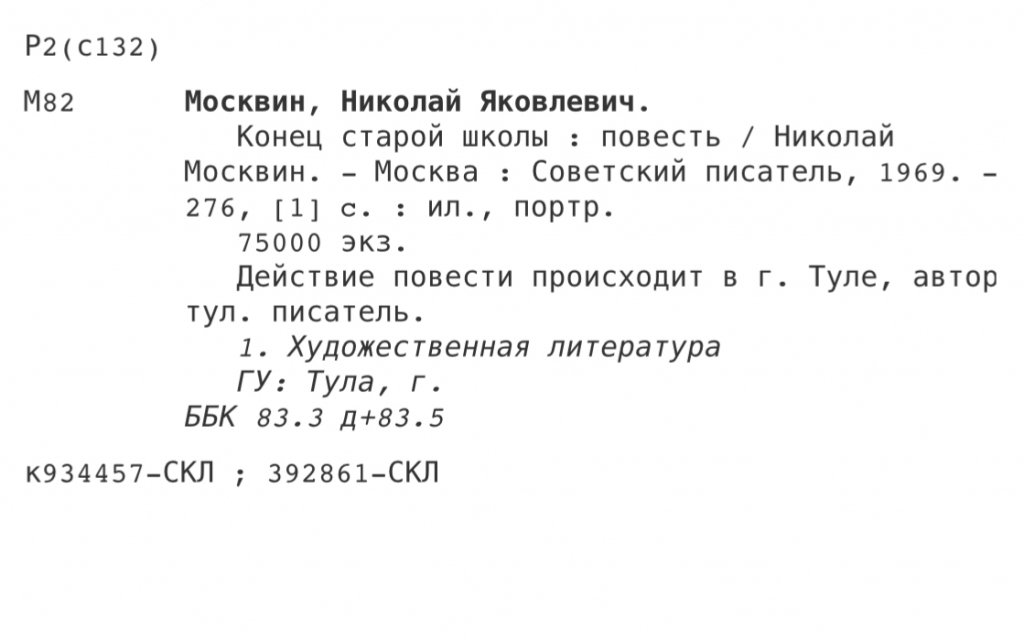
.jpeg)