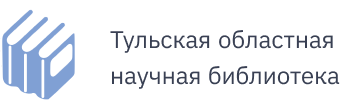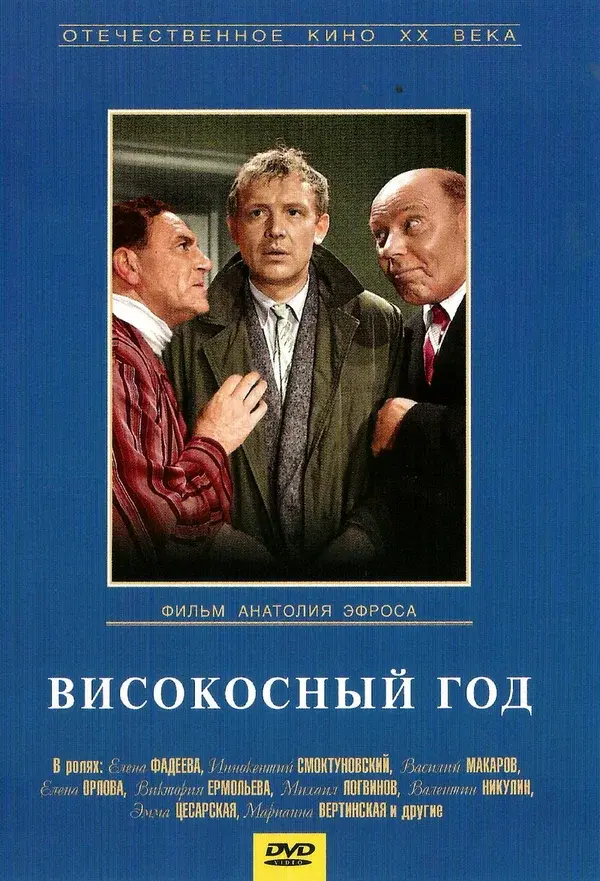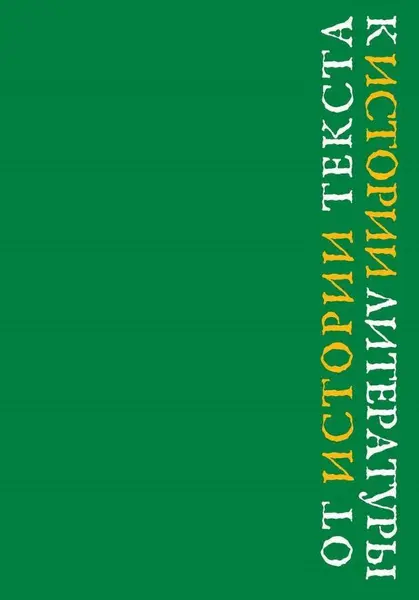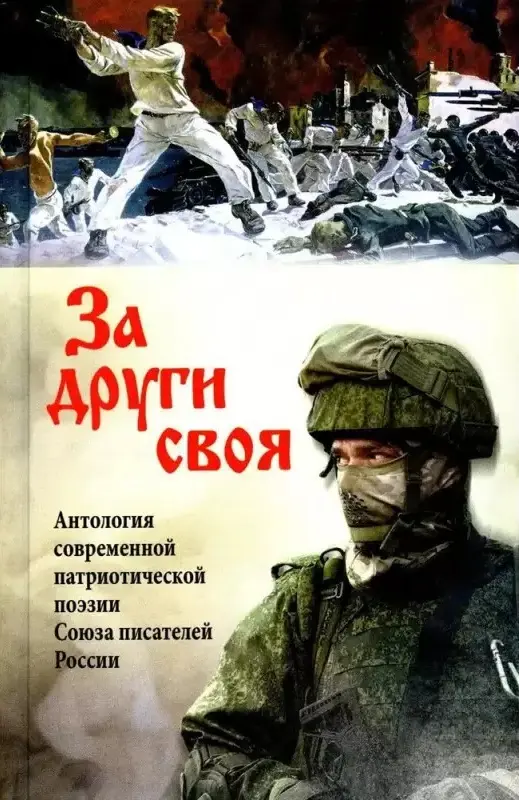Как и почему не дали Нобелевскую премию Вознесенскому
В известном и мудром рассказе Рэя Брэдбери путешественники во времени, неосторожно сойдя в далёком прошлом со специально проложенной туристической тропы и раздавив всего-навсего бабочку, вернувшись, обнаруживают в настоящем времени катастрофические изменения. Преувеличение? Ничего подобного: эта коллизия от гениального фантаста получила зловещую реализацию в нашей культурной действительности.
Во второй половине 1970-х поэт Андрей Вознесенский добился уже такого качества письма и такой известности во всём мире, что присуждение ему Нобелевской премии по литературе было делом фактически решённым. Зафиксированы признания тогдашних членов Нобелевского комитета: за Андрея Андреевича было предварительное большинство голосов в 1978-м. Вознесенский был авангардистом, горланом-главарём, но главным его качеством, по мнению зарубежных творцов репутаций, была, пускай, умеренная, но всё-таки оппозиционность советской власти. Объявление итогов предстояло по осени.
Дальше произошло нечто несусветное. Несомненно, то была виртуозная работа спецслужб: советских (чтобы не обременять враждебным добром нашего хорошего человека) или западных (чтобы лишний раз не повышать в мировом масштабе статус официальной советской литературы). За давно изданную и почти позабытую поэтическую книгу «Витражных дел мастер» Вознесенскому стремительно присуждают и вручают Государственную премию Советского Союза. Оп-па. Как же так? Репутация умеренного оппозиционера и заядлого авангардиста испорчена. Никогда никаких официальных наград писателям подобного рода и направления Советы не вручали, как вдруг… Нобелевская премия уплыла, поэтому, от русскоязычного поэта буквально из-под носа. Ходила кругами на большой глубине 9 лет, а в 1987-м отдалась Иосифу Бродскому.
Как и для чего дали Нобелевскую премию Бродскому
Пожалуй, на сюжет Брэдбери похоже лишь отчасти. Всё-таки там путешественник во времени запустил будущие катастрофические изменения по неосторожности, здесь же очевидно чужое полит-технологическое усилие. Бродского впоследствии явно и прицельно запланировали как фигуру знаковую, абсолютно во всём противоположную некогда сбитому на взлёте Вознесенскому. В самом деле, Иосиф Александрович был в юности обижен Советской властью за тунеядство; официально в СССР не издавался; эмигрировал в США; возвращаться на Родину, пускай даже «перестроечную», не собирался. Более того, Бродский, как и опекавшая его Анна Ахматова, брезгливо отзывался о поэзии Вознесенского, в то время как Вознесенский относился к Ахматовой с почтением, а в отношении Бродского никакого публичного пренебрежения не допускал.
Таким образом, двумя лёгкими движениями чьей-то руки, недоброжелательной по отношению к нашей культуре, сначала в период застоя, а затем в самый разгар горбачёвской «перестройки» была развязана форменная гражданская война в отечественной культуре, ну, как минимум в литературе. Причём война с позиции силы. Ну, а как же, на одной стороне будто бы всемирно признанный Нобелевский лауреат-метафизик, вдобавок некогда затравленный Советской властью, на другой ярко-поверхностный рифмоплёт, «эстрадник», удостоенный «всего-навсего» Государственной премии своей собственной державы.
Удивительно, кстати, что в нашем Отечестве Нобелевская премия, которую зачастую вручали кому ни попадя или по политическим мотивам, до сих пор котируется выше Государственной премии Советского Союза. Непостижимо! Впрочем, чему удивляться, если ещё в бессмертной комедии Грибоедова с горечью обсуждалось иноземное влияние на умы тутошних, главным образом столичных, «грамотных»:


А далее Чацкий признаётся в своих недавних молитвенных усилиях:

Я одаль воссылал желанья Смиренные, однако вслух, Чтоб истребил господь нечистый этот дух Пустого, рабского, слепого подражанья; Чтоб искру заронил он в ком‑нибудь с душой, Кто мог бы словом и примером Нас удержать, как крепкою вожжой, От жалкой тошноты по стороне чужой.

Как Вознесенского добивали
Сразу после «победы» Иосифа Александровича за Андрея Андреевича взялись самые разные деятели из окружения Бродского: необходимо было окончательно добить реального конкурента на поэтическом Олимпе, а заодно закрепить оценку «подлинное искусство» за ещё недавно подпольной культур-мультурой. Особенно известны теперь самопальные анекдоты другого эмигранта, Сергея Довлатова:

«Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским. Было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся.
“Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу...”
Может, они даже сфотографируют его. Представляешь — бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега».

Смешно? Не смешно, но попросту низко.
Или:

«В молодости писатель Андрей Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского.
Это был уже не первый случай такого рода. И Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела.
И тогда Битов произнес речь. Он сказал:
— Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело.
Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно — простите. Ибо я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.
— Ну и как было дело? — поинтересовались судьи.
— Дело было так. Захожу я в "Континенталь". Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, — воскликнул Битов, — мог ли я не дать ему по физиономии?!»

Подобная сомнительная «юморина» ни за что не стала бы фактом русской словесности, если бы в 1978-м Нобелевку по литературе вручили Андрею Вознесенскому. У него была бы, так сказать, охранная грамота. Ведь люди из подполья о-очень уважали и уважают забугорных оценщиков. Недаром же они по большей части за бугор перебрались.
«Мастера слова», подобные Довлатову, целенаправленно уничтожали наветами и юморком всю официально признанную советскую культуру, одновременно повышая до небесного уровня статус тех, кто находился при Советской власти в подполье:

«Конечно, Бродским восхищаются на Западе. Конечно, Евтушенко вызывает недовольство, а Бродский - зависть и любовь. Однако недовольство Евтушенко гораздо значительнее по размерам, чем восхищение Бродским. Может, дело в том, что негативные эмоции принципиально сильнее?»

А вот насколько целенаправленно и цинично была переиначена Довлатовым легендарная советская военно-патриотическая песня:

«Диссидентский романс: "В оппозицию девушка провожала бойца..."»

Дескать, честным людям с хорошими лицами – только в оппозицию! Тень считает, что её лицо благообразнее, чем у Персоны, и втайне надеется попасть вместо Персоны на обложку «Огонька». И ведь самое грустное – Тени это удалось.
Но и сам Иосиф Бродский, поэт объективно крупный (хотя, конечно же, не крупнее всех-всех других современников, не говоря о предшественниках), ещё до своего премирования Нобелевкой в полной мере осознавал задачу конкурентной борьбы с соответствовавшей ему по рангу Персоной – Андреем Вознесенским, а потому на разный лад расхваливал поэзию Владимира Высоцкого, и в особенности его остроумно-изысканные рифмы. Не нужно быть профессиональным литературоведом, чтобы понять: за похвалами Высоцкому стояла не любовь к творчеству знаменитого барда. Стояло исключительное желание косвенным образом «забороть» Вознесенского, который, конечно же, был и остаётся по сей день самым невероятным русскоязычным рифмоплётом (естественно, в хорошем и прямом смысле этого слова).
Вера Панова и её литературный секретарь
Все эти беглые размышления спровоцированы фактом недавнего юбилея Веры Фёдоровны Пановой – гениальной, никак не меньше, представительницы соцреализма. Кстати же, Довлатов какое-то время работал при ней литературным секретарём. Поэтому в его литературных анекдотах Вера Панова – едва ли не единственная представительница официально разрешённой советской культуры, которую Довлатов подаёт без подхихикивания, а скорее, в положительном ключе. Почему бы? А попросту перед нами образцово-показательная парочка: Персона (Панова) – Тень (Довлатов), а Тень, известное дело, побаивается своей Персоны, даже если та давно умерла. Ведь Тень без Персоны попросту не существует как сколько-нибудь значимая величина…
В своих «произведениях» Сергей Довлатов, как и подобает Тени, методично и вряд ли остроумно изничтожает всю, скажем так, лицевую советскую культуру, при этом столь же целенаправленно возводя в абсолют советского же происхождения «теневиков», ему сродственных.
В этом нет ничего удивительного: такова природа Тени, такова её внутренняя задача. И проблема не стоила бы выеденного яйца, если бы официальная российская культура парадоксальным образом не поддерживала бы с момента развала СССР именно теневиков. Это попросту против природы вещей и будет, к сожалению, иметь серьёзные последствия.
«Високосный год» как фильм о взаимоотношениях Персон с Тенями
На юбилейном заседании киноклуба в четверг 20-го марта посмотрели и обсудили фильм по сценарию Веры Пановой «Високосный год» (1961). Дело в том, что как раз 20-го марта исполнилось 120 лет со дня рождения этого уникального русского советского писателя. Выбор у нас был большой. Многочисленные фильмы по романам, повестям и сценариям Веры Фёдоровны – это зачастую шедевры, среди которых особенно памятны до сих пор «Серёжа» (1960) Георгия Данелии и Игоря Таланкина, «Евдокия» (1961) Татьяны Лиозновой, «Вступление» (1962) Игоря Таланкина, «Рабочий посёлок» (1965) Владимира Венгерова, «Мальчик и девочка» (1966) Юлия Файта, «Вылет задерживается» (1974) Леонида Марягина, «На всю оставшуюся жизнь» (1975) Петра Фоменко, «Сентиментальный роман» (1976) Игоря Масленникова.
И всё-таки мы остановились на фильме «Високосный год», который в 1961-м году поставил на студии «Мосфильм» Анатолий Эфрос. Это экранизация повести Веры Пановой «Времена года». Сценарий, как уже было сказано, написала она сама. Будущий театральный гений Анатолий Эфрос сработал на пятёрку с плюсом – пожалуй, это лучшая его работа в кино. Актёры во главе с Иннокентием Смоктуновским сногсшибательны. Сюжет – о выборе жизненного пути, о пробуждении души, о частных судьбах в соединении с судьбой великой страны – не ходульный, а сложносочинённый. Пришли на просмотр те, кто неравнодушен к сильной/светлой литературе и качественному советскому кинематографу.
Вера Панова оказалась ещё крупнее, чем сильно уважавший её модератор киноклуба (он же автор этих строк) мог предположить. В фильме с участием Анатолия Эфроса, Иннокентия Смоктуновского и других мега-звёзд она оказалась лучше их всех на порядок! Чего стоит одна только подмеченная в финале обсуждения деталь: властная мать главного героя (по существу, мать обозначает здесь всё и вся контролирующую "советскую систему") по виду радушно, но ведь "на официальном уровне", то есть безлично/бессердечно, общается в аэропорту с некоей иностранной делегацией, а тем временем конкретное имя её непутёвого сына, будто бы пройдохи и лодыря, озвучивается на весь аэропорт, на всё безличное анонимное многолюдье из репродуктора. И тогда мать сереет лицом. Это момент истины для неё: она не ставит его ни в грош (хотя любит как умеет, конечно), но непутёвый сын внезапно во всю ивановскую ПЕРСОНАЛИЗИРУЕТСЯ. Никто этой и других ненавязчиво-изящных гениальностей никогда не замечал и не описывал. Никто этот несколько корявый по исполнению, но всё равно запредельный художественный фильм не знает и не уважает. Как можно? Как такое случилось?! А попросту Вера Панова и ей подобные гении советской эпохи давно выброшены на культурную помойку. Достаточно почитать обывательские комментарии в Сети к выдающимся и требующим аналитической сноровки фильмам по её сценариям. «Заунывная советская белиберда» - это самое мягкое, что встретилось. Обыватели научены «довлатовыми», которых издают и переиздают без устали.
Линия со слабыми отцами и гипер-властной матерью, как было сказано на нашем обсуждении, привела через 13 лет к великому фильму "Романс о влюблённых" и гениальному фильму "Прошу слова": мальчики там методично пропадают и гибнут (в «Високосном годе» героя, которого играет Смоктуновский, всё-таки откачали, вернули с того света), а хоккеисты с футболистами становятся в середине 1970-х уже важнее бойцов, да и просто отцов. Начало темы, повторимся, конечно же, в "Високосном годе".
В этом фильме имеет место невероятная для нашего кино того времени (да и позднейшего времени тоже!), явно осознанная Пановой игра с категориями Персона/Тень, с категориями "вперёд по раз и навсегда проложенным рельсам"/"зигзагами, по бездорожью и непогоде в поисках собственного индивидуального Пути". Смоктуновский внятно даёт громадный психический объём молодого человека, который в принципе не может, как его биологический отец, автоматически мчаться всю жизнь по рельсам, да ещё и с важным лицом словно для обложки "Огонька". Тогда герой находит себе теневого отца, который в отличие от биологического читал много книжек и в свою очередь тяготится своим примитивным "Малюткой" - символическим сыном в исполнении блистательного Льва Дурова. Теневой отец искренне хочет сына с лицом, статью и психикой Персоны - Смоктуновского, а не с ужимками Тени - Льва Дурова. Однако, будучи теневым отцом, закономерно приносит нового, "любимого", сына в жертву (что-то похожее у Вампилова: "...Ты тоже сын. Но он - старший, он мой Любимый Сын...").
Перемен, мы ждём перемен!
Таким образом, Вера Панова даёт всю ту проблематику, которой гордились диссидентствующие «подпольщики», но только раньше их, тоньше их и вдобавок в массовом кинематографе! Модератор всегда считал, что лучшие из официально разрешённых советских писателей и кинематографистов описывали советскую реальность точнее, честнее, художественнее, нежели диссиденты с подпольщиками и эмигрантами. Механизм этот общеизвестен, но замалчивается дожившими до сего дня протестантами былого времени и их клевретами. Между тем, очевидно, что у «подпольщиков» пусковой механизм - это всегда Обида с Завистью. У Пановой и её соратников в центре психики и в основе художественного метода – иное.
Заседание киноклуба, посвящённое юбилею нашей великой писательницы и сценаристки, показало, кто же ценен матери-истории по-настоящему. Когда «теневики» утомятся в борьбе с писателями из официального списка, когда массы вновь затребуют Больших Смыслов в противовес неумному, инспирированному завистью и борьбой за Статус «юморку», тогда-то будет властно повторена популярная некогда реплика: «Тень, знай своё место!»