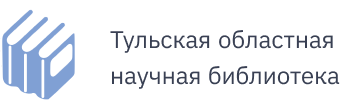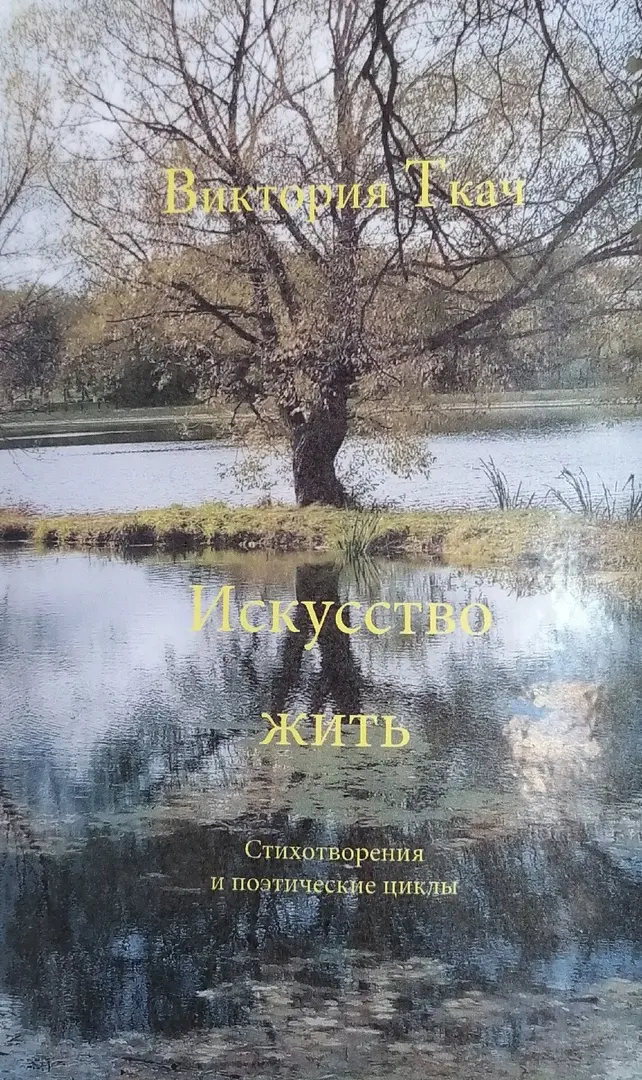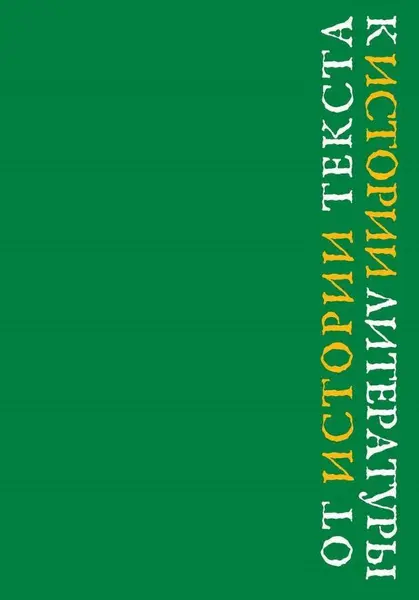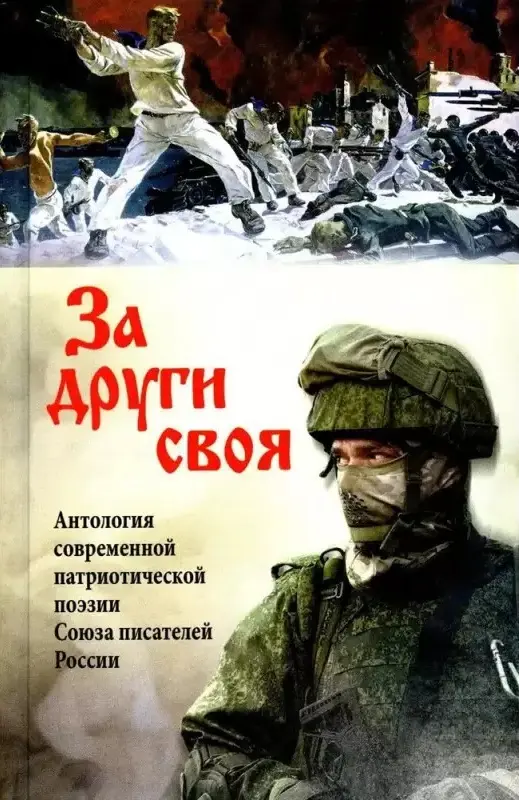В Туле живет поэт Виктория Ткач. И не только поэт – переводчик, заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева, руководитель литературного объединения, бессменный член жюри многих конкурсов и премий, член Союза Российских писателей. И все это прекрасное, важное, нужное людям, являющееся символом социальных и культурных достижений поэта, мы сейчас отложим в сторону и будем говорить только о поэзии. Ибо для любого истинного поэта это и есть самое-самое главное.
Итак, в 2024 году вышел новый – тринадцатый! – сборник Виктории Ткач «Искусство жить». Поэт характеризует свою новую книгу как попытку «если не понять жизнь, то воспринять ее как великий дар и великую тайну». И можно быть уверенным, что искусство жизни поэта совсем не прозаическое. Что там простое и понятное искусство жизненных достижений и приобретений? Искусство жить поэта это искусство баланса, искусство полета, искусство быть всем и всюду. Может быть, поэты и не умеют иначе? «Мне всегда казалось», – пишет Виктория Ткач, – «что я начала сочинять стихи очень естественно, – просто по-другому и быть не могло. Будто просто начала слышать то, что происходило извне, или свыше, или…»
У любого поэта всегда своя собственная внутренняя Вселенная. Там свои законы, свои герои, свои символы. Читатель эти образы сразу замечает, ведь именно они создают «почерк» поэта, делают его неповторимым. Каждый, кто читал поэзию Виктории Ткач, разумеется, сразу замечал главных «жителей» ее поэтической Вселенной. Так, откликаясь в 2023 году на ее же книгу верлибров «Форма», я писала:
…Не место
Устойчивым здесь выражениям,
Поэтическим формулам,
Традициям.
Только дождям и птицам…
Ключом к тринадцатому сборнику (сакральное число!) мне представляется стихотворение «Поминальный день». В нем словно собраны все главные образы. Стихотворение является, на мой взгляд, центральным в сборнике – и по его значению и по заложенным в нем смыслам. И чтобы не казалось, что вдруг мне это показалось – оно является центральным и по месту расположения. Стоит в центре. Всего в сборнике 95 стихотворений, а это 47-е. Совпадение? Не думаю. Разберем его подробно:
Этот день, как хлеб поминальный,
Разделите со мною, птицы!
Колокольный, тягучий, дальний
Голос деда мне снится, снится….
В первых же строках отсылка как к христианской, так и к более древней, языческой традиции угощать специальным – поминальным – хлебом птиц, которые являются душами умерших родных. Поминальный хлеб всегда немного недопекали, чтобы сохранять его мягким, и добавляли семян кориандра – для горечи. На сороковой день хлеб относили на могилу умершего родственника, чтобы отдать птицам. Угощая их, люди проявляли уважение к предкам и, тем самым, оберегали свою собственную жизнь. Здесь поэт предлагает птицам вместо хлеба разделить день своей жизни, то есть себя. Поэт сам и есть поминальный хлеб для оберегающих ее предков – раздавая себя, она становится ими, каждым из них:
Колокольный, тягучий, дальний
Голос деда мне снится, снится….
Здесь длинные, тягучие ударные гласные рождают в читателе образ колокольного звона – торжественного и печального. Разделяя себя с душами умерших предков, поэт становится с ними «в неразрывной сцепке»:
И уже – он ведет за руку,
И опять – обнимает крепко.
Через боль временной излуки
Мы идем в неразрывной сцепке.
Для чего же поэт совершает этот ритуал поминовения, разделения себя с птицами-душами? Что совершается в стихотворении на наших глазах?
Души – корни, что смерти глубже,
Прорастают со дна печали,
Чтоб сады от житейской стужи
Укрывали. И пеленали…
И, качаясь в небесной зыбке,
Вспоминаю напев сакральный.
Голос рода – многоязыко –
Говорит во мне изначально
Поэт соединяется с душами своего многоязычного рода. Душами, настолько древними, что они уже не прилетают птицами, а «прорастают со дна печали», превращаются в сад, в колыбель (зыбку), защищают поэта от «житейской стужи». Поэт обретает Голос Рода:
И баюкает, и спасает,
Причащает живой водицей…
И Всевышний об этом знает.
Потому – прилетают
птицы.
Образ причащения водой («живой водицей»), соединяет в себе глубоко фольклорное и библейское. Поэт причащается водой и соединяется с Богом, с Родом, со всем Сущим.
Образ воды, во всех ее состояниях (вода, снег, облако) один из центральных в поэзии Виктории Ткач. Если сам поэт, причащаясь Богу и Роду, становится равным всему – человеку и птице, жизни и смерти, то вода становится его единственно возможной средой обитания, его Первородным Океаном. Вода равна жизни, равна возможности существования живого.
И далее мы читаем сборник, страницу за страницей, стихотворение за стихотворением, имея эти ключи – хлеб, как пища для душ умерших родных, птица, как сами эти души или образ поэта, вода, она же снег – как единственно возможная среда обитании. В этой среде живые и мертвые равны, в ней смерть означает лишь готовящееся новое рождение, сад – защиту человека, колыбель.
В стихотворении «И первый снег…» мы видим соединение жизни и смерти в снеге (воде), этом вечном Первородном Океане:
И первый снег, и снег последний –
Метельный белый хоровод –
Все это звенья, звенья, звенья
Для жизни, что идет, идет…
И мы в безумной круговерти
Скользим по снежному пути
До самой смерти, смерти, смерти –
К рожденью,
Чтоб идти, идти…
В стихотворении «Скоро весна…» из Первородного Океана рождается Весна, радость жизни, и в мир является Поэт в образе женщины и птицы одновременно, и в образе Земли, растящей сады. Поэт соединился с Богом и стал сразу всем, но ведь у поэтов так всегда и бывает:
Скоро весна,
И хочется быть святой,
Чтобы входить в небесно-зеленый храм,
Облаком плыть. Быть неизведанной – той,
Кому говорят: «Другим уже не отдам!».
Скоро весна.
И хочется быть землей:
Греть семена. Растить цветы и траву.
Слышать ветра и речью своей иной
Сны наполнять, дурманя потом наяву.
Скоро весна!
И хочется все успеть:
Женщиной быть, облаком, первой травой.
И потому Господь даровал мне петь:
Желтой синичке
На веточке
Ледяной.
Впрочем, в Первородном Океане есть путь не только Оттуда, но и Туда. У того, кто решился на соединение со всем сущим, нет страха или протеста по этому поводу, только глубокая печаль. Со дна которой, как мы помним, прорастают души-корни:
Сегодня потоп. Небесные воды бескрайни.
Бездомным дождем к земле совершают свой путь.
Так ходит по миру великий непонятый странник,
И смотрит в глаза, и просит чуть-чуть отдохнуть.
Но в душах – темно. Внутри не дома – лабиринты!
Петлять и петлять, и даже не видно дорог.
И капли молчат, и пахнут чуть-чуть гиацинтом,
Который Господь у самого сердца берег.
Сегодня потоп.
Шаги безнадежней и тише.
Он скоро уйдет к далеким святым берегам,
Где будет бежать по лужам беспечный мальчишка,
И где все поймем,
Когда в срок
Окажемся
Там.
«Но разве жизнь – последнее тепло?», – спрашивает поэт. Конечно, нет! Иначе было бы слишком печально. Некоторые стихотворения, радостные и бодрые по ритму, читать физически больно. Ключи-образы вмешиваются, смещая внешне описываемые события, придавая им иной смысл:
И стали цветы плодами,
И небо – предельно звонким.
Над синими куполами
Трель птицы, как смех ребенка.
Не осень – начало веры.
Листва в желтизне старений
Полетом не смерть измерит,
А будущее рожденье.
И силы придут, и сроки,
И жизнь опять повторится.
И только, по-детски тонко,
Смеется на небе птица…
Внешне все хорошо, все радостно, цветы, плоды, синь куполов, начало веры, смерть превращается в рождение… Но как без слез читать о птице, чья трель это детский смех? Поэт противопоставляет всю радость жизни, которая, разумеется, повторится, голосу одной единственной души-птицы («и только, по-детски тонко…»). И сразу за этим стихотворением следует, как тайный код, как часть ключа, следующее:
Забвенья горек мед.
И призрачные пчелы
К цветам летят испить,
Амброзию печали.
…Их голоса, как сны, мозаично-тяжелы.
Они мечтали жить. Они еще не знали,
Что пить воспрещено…
Когда поэт соединился со всем Сущим и не-Сущим, то соединился не только с радостью… Соединяясь со всем, познаешь всё, а многие знания – многие печали… Океан, как и жизнь, бывает жесток. Может быть, океан вовсе не Первородный, а чайки это просто чайки и ничего больше? И память о прошлом, и вера во все хорошее оборачиваются прогорклыми крошками?
Сколько мостов «через»! И ни одного «между».
Лишь океан серый месит песок прибрежный.
Глупые чайки рады
Старым прогорклым
Крошкам –
Таким, как «память о прошлом»,
Таким, как «весь мир хороший».
Держись, поэт! «Бушует прилив незряче и топит, где мысли тоньше...» А где тоньше? Там, где рвется… Там, где мысли о конечности жизни. В стихотворении, посвященном ушедшему поэту В. Пинаевской, Виктория Ткач пишет:
Пора! Пора…
Измолото зерно,
Что станет скоро жизнью и прощеньем.
Хлеба готовы. Больше не дано
Измерить жерновам круги вращенья…
…И ты не принимаешь мягкий хлеб,
И каждый ломоть кажется с горчинкой.
И мнится: настоящей из побед
Стал привкус рифмы – маковой росинки
Мягкий хлеб с горчинкой – признаки хлеба поминального, и пусть поэт знает, что смерти нет, но что поделаешь с горюющей душой? Победа в привкусе рифмы, что равняется росинке, капле Первородного Океана, равняется бессмертию. Душа перемещается к Богу, у которого нет мертвых, кому, как не поэту, об этом знать? Поэт сам наполовину птица, сам житель Первородного океана.
Мне радостно! В предутреннем бреду
шептать дождю – иду, иду, иду,
и капли на губах подобны мёду....
… Ах, мне бы только звуки перепеть,
и за янтарь отдать ночную медь,
и не поверить, что конец случится,
и что застынут стрелки на часах,
и что дождинки…
Не успела…
Взмах!
Из сердца
Упорхнула
Чудо-птица….
Сколь бы ни было страшно (восхитительно-страшно) свободное обращение поэта с рождением-смертью, душами-птицами, но гораздо страшней поэтические строки, в которых нет родной для поэта водной стихии. Тогда как будто выгорают краски, строки и души, мир покрывается серой патиной, как в стихотворении «В мой дом не войти никому…» из цикла «У порога»
В мой дом не войти никому:
Терниста основа дверей.
В нем места как раз одному –
Тому, кто бездомней зверей,
Тому, кто безмолвней толпы
И так же в душе одинок.
Все окна – тенисто слепы.
Мой дом – не приют, не острог –
Пустыня пришедшим извне,
Колодец глубокий, как вздох,
С холодной звездою на дне,
Которую льдинкой сберег
Мой дух.
Моя зимняя боль
Скребется мышами в углах.
Мой дом – сероватая соль,
Рассыпанная на столах
Приметой, предчувствием при
Уходе за низкий порог.
Над крышей – всегда снегири,
И ветры, и песни.
И Бог
Сидит, как старик, у огня.
Дороги свивая в пути,
Мой дом, как клубочек, меня
Дает
Тем, кто хочет
Уйти.
Ни капли, ни росинки из такой живительной водной стихии, лишь «льдинка» на дне глубокого колодца, да и та, возможно, лишь кристаллик сероватой соли, насыпанной как оберег от незваных гостей. И поэт уже не радостная «желтая синичка на веточке ледяной», а мрачный проводник «за низкий порог»… Стихотворения поэта без «дождей и птиц» всегда немного сухи, шершавы, болезненны. Так, в стихотворении «Читаю, считаю, как пряжу мотаю…» энергичные строки приобретают ритм марша «И время равняться на дерзких и сильных!», но тревога, порожденная отсутствием привычной для поэта водной, дождевой стихии, себя оправдывает: «Но вижу, но вижу кровавые пятна…». Нет, законы Вселенной не обмануть: «И нить все быстрее сбегает сквозь пальцы, и птицы летят, и предсказано это…».
И только в цикле «Турция. Аланья» поэт словно оказывается на другой стороне, на изнанке Вселенной, ключевые образы тоже меняются:
Лучи разбивают тяжелые тучи.
И нет больше душ, словно птиц, сиротливых,
А есть аромат благовоний пахучих,
И вечный покой,
И азан муэдзина,
И день эту жизнь сквозь века продолжает,
И небо становится солнечно-синим.
А голос все тише,
Все тише…
И тает…
Вместо воды – сок, нектар плодов, как квинтэссенция бытия, вместо дождей солнце, вместо сада-кокона – Райский сад. Всё волшебство, все противоположно привычному, все прекрасное и все чужое.
Не море, а время теплом обнимает.
Песочно желтеет изгиб цитадели.
Свершались победы,
И женщины пели,
И розы рубиновой влагой алели…
Что было?
Кто знает,
Кто знает,
Кто знает…
…А море
Качает,
Качает,
Качает.
И мир перевернут в бездонные воды.
Тахинное солнце. Шафран небосвода.
Прощанье заката. Беспечность восхода.
Что будет?
Ответ, как волна, ускользает…
К добру ли, к худу ли? «Ответ, как волна, ускользает». Просто он другой, этот мир. В последнем стихотворении сборника «Море – тысячетонный Сизиф…» возвращается от восточного волшебства к собственным истокам: «Пенится, пенится синяя кровь, тепло-соленая, вся – первозданна!» Мир все-таки един и понят, и принят Поэтом:
Море устало...
Но сбудется миф –
В крошеве галечно-каменистом.
…Только один,
Твой нашедшийся сон,
Что все желанья исполнит отныне.
Только найди.
Вот и он!
Вот и он…
Символом счастья увиден
И принят!